«Язык — это главное противовирусное средство»
МЕНЮ
Искусственный интеллект
Поиск
Регистрация на сайте
Помощь проекту
ТЕМЫ
Новости ИИ
Голосовой помощник
Городские сумасшедшие
ИИ в медицине
ИИ проекты
Искусственные нейросети
Слежка за людьми
Угроза ИИ
Компьютерные науки
Машинное обуч. (Ошибки)
Машинное обучение
Машинный перевод
Нейронные сети начинающим
Реализация ИИ
Реализация нейросетей
Создание беспилотных авто
Трезво про ИИ
Философия ИИ
Генетические алгоритмы
Капсульные нейросети
Основы нейронных сетей
Распознавание лиц
Распознавание образов
Распознавание речи
Техническое зрение
Чат-боты
Авторизация
2020-07-21 17:00

Михаил Эпштейн — филолог, философ и теоретик культуры, среди интересов которого — постмодернизм, теория советской идеологии и философии, методология гуманитарного знания, семиотика повседневности, проективная лингвистика, развитие языка и мысли вообще. Только что издательство «НЛО» выпустило сборник «Homo Scriptor» в честь 70-летия Эпштейна, где коллеги анализируют его вклад в гуманитарную науку. Важная часть работы Эпштейна — сетевой проект «Дар слова», где учёный конструирует новые слова, способные обогатить русский язык. Варвара Бабицкая поговорила с Эпштейном о том, какие изменения ждут русскую культуру после пандемии, о жанровой природе проекта «Дау», о влиянии писателей-концептуалистов на современную политику и о новой актуальности русских классиков.

Михаил Эпштейн
Фото Александра Бергана
Вопрос, которым многие сейчас задаются: что будет с человеческой культурой после карантина, как пандемия изменит нашу жизнь?
Мне кажется, культура станет ещё более культурной — ещё больше отдалится от природы, от мира физических явлений. Переход культуры из «реала» в виртуальные миры, начавшийся в последние три десятилетия, сейчас получает сильнейшее ускорение в связи с тем, что сам реальный мир начинает нас из себя выживать. «А в наши дни и воздух пахнет смертью» — Пастернак это написал сто лет назад, и вот повторяется... Всё переходит в онлайн: бизнес, образование, услуги, все виды искусства... Такова отчасти печальная, но неизбежная и специфическая для человека установка на дистанцирование. Что такое язык и вообще любая знаковая система, как не способ отдаления от мира означаемых через условность означающих — то, что физиолог Павлов назвал «сигналами сигналов» и «отвлечением от действительности». Язык — это главное «противовирусное» средство, поскольку он позволяет оперировать миром, не приближаясь к нему или касаясь его опосредованно. Карантин, который сейчас добавляется ко всем уже наработанным защитным механизмам культуры, — это проявление её глубинной сущности. Информация поступает к нам в основном через зрение и слух, а это дистанционные органы символического восприятия. В этом наше отличие от других биологических видов, которые получают информацию в большей степени через контактные органы — обоняние, вкус, осязание. Культура — это система дистанцирования, и коронавирус подталкивает нас в том же направлении. Сейчас, когда мы общаемся по зуму, возникает вопрос: а так ли уж важно, что мы не можем пожать друг другу руку? «Зумификация», которая сейчас происходит во всех областях культуры и коммуникации, столь же неизбежна, как в своё время электрификация.
Интересно, как меняется в этой ситуации содержание культуры в принципе, ведь в этом изолированном состоянии опыт наш оказывается очень обеднённым.
Карантин, в принципе, может оказаться плодотворным для культуры. Мы в основном воспринимаем карантин как пространственный феномен, а по сути он — временный, точнее, временной. «Карантин» — от латинского корня, означающего «сорок». Именно столько дней венецианцы держали на отдалении суда, прибывающие к ним из зачумлённых стран. Но число 40 означает испытание в более глубоком, духовном смысле. Сорок лет Моисей водил свой народ по пустыне, прежде чем ввёл его в Землю обетованную. Сорок дней Иисус постился в пустыне, прежде чем выдержать испытание Сатаны и приступить к исполнению своей миссии. Карантин, «сороковик» — это период испытания, самоограничения, аскезы, прохождения через пустыню.
И нынешнее испытание рождает много интересного. Я в этом семестре читал своим студентам курс под названием «Фантом империи», о культуре и политике от Горбачёва до Путина, и надо сказать, что в тoм историческом переходе, который мы наблюдаем, от перестройки до «обнуления», всё выглядит достаточно печально. Мне хотелось чем-то воодушевить студентов, и я показал им видео, где танцоры Михайловского театра танцуют у себя на кухнях. Это было по-своему столь же грациозно и артистично, как на сцене, и даже интереснее: бытовой танец как форма художественного остранения традиционного балета, как искусство в квадрате. Расцветают домашние формы культуры: например, «изоизоляция» — люди воспроизводят из подручных материалов композиции известных картин или скульптур. Самоограничение лежит в основе любого искусства. Аскеза — это работа над собой, упражнение по овладению своей телесной жизнью, искусство внешнего воздержания с целью внутреннего усиления.
Культура сейчас пребывает в процессе доместикации, благодаря которому мы когда-то подчинили себе природу, подвергли её «аскезе», обработке. Мы одомашнили животных, растения, так возникло сельское хозяйство и вообще цивилизация. Но цивилизация от нас очень сильно отдалилась — это называется процессом отчуждения, — а сейчас благодаря зуму мы переживаем период «доместикации цивилизации», то есть она перемещается в наши дома.

Фрагмент триптиха Иеронима Босха «Искушение Святого Антония», XVI век. Национальный музей старинного искусства, Лиссабон

Фотография Светланы Семенюк для группы «Изоизоляция»

Слева: Рене Магритт. Посвящение Маку Сеннету. 1934 год. Художественное собрание земли Северный Рейн—Вестфалия, Дюссельдорф. Справа: фотография Елены Осадчей для группы «Изоизоляция»
«И от нас природа отступила — / Так, как будто мы ей не нужны», как писал Мандельштам.
Может быть, я по природе оптимист — не исторический, но метафизический: мне представляется, что у этой катастрофы есть и благоприятные перспективы для культуры. Сейчас можно так организовать творческое пространство, как раньше, в эпоху разъездов, миграций, вряд ли могло получиться. Стоит напомнить, что ещё в 1970-е и 1980-е годы, до перестройки, существовала мощная домашняя культура, со своими чтениями, обсуждениями, семинарами... Это и понятно, потому что мы жили в эпоху «политического коронавируса», официальная идеология была своего рода пандемией. И мы спасались в своих жилищах, на кухнях. В 1984 году мы с друзьями создали на квартире у одного из нас, на Сретенском бульваре, «Лирический музей». В противовес обычному представлению о музее как о собрании общезначимых вещей, оставивших след в истории, в культуре, мы выставили там наши личные вещи. И снабдили их надписями, объяснениями, маленькими эссе: что эта вещь значила в нашей жизни, что привело её сюда. Это пример домашней культуры, которая не только возможна в таких стеснённых условиях, но и отражает ценности дома. Среди участников были совершенно разные люди: от художника Ильи Кабакова, который выставил свой «Мусорный роман», до восьмилетнего Паши Мирзоева (ныне режиссёра), который написал про свою любимую кастрюлю. Я представил фантик конфеты «Былина» и свой любимый калейдоскоп. Приходили посетители — знакомые и незнакомые, потому что мы дали объявление, что в такие-то часы можно посетить «домашний лирический музей». Кстати, это была коммунальная квартира...
Этот «Лирический музей» был частью общего проекта, который у нас назывался коллективной импровизацией. Мы собирались друг у друга, приносили свои разнообразные темы, выбирали одну и писали за большим столом в течение 40 минут — часа. Потом читали вслух, обсуждали, снова писали... Среди нас были физики, математики, лингвисты, культурологи, поэты, домашние хозяйки, люди с разными профессиональными подходами.
Ещё тогда мне думалось: хорошо бы эту коллективную импровизацию проводить не только в виде текстов, но и пригласить художников, музыкантов, актёров и создать синтетическое, универсальное произведение в жанре «культуры как целого». Скрябин мечтал о «финальном», вселенском произведении, которое завершит судьбы мира, — но он создавал такой художественный экстаз и синтез только посредством музыки. Сейчас, я чувствую, снова возникает потребность возрождать ренессансные формы культурного синтеза. В нормальное время вольных перемещений было бы невозможно собрать людей, да и людям было бы невозможно вырваться из своих узкоспециальных занятий. Теперь нам стало доступно в онлайне гораздо больше музеев, выставок, фильмов, спектаклей, книг, концертов, чем когда-либо раньше, так что почва для ренессансного мироощущения подготовлена, как ни странно, домашним уединением. Мы всё шире распахиваем своё виртуальное окно на горизонты культуры вопреки той специализации, которая раньше дробила и разделяла науки и искусства.
В прошлом реакцией на загнившую официальную культуру стал, например, московский концептуализм. Вы в недавней книге о постмодернизме высказали мысль об апофатической природе постмодернизма вообще, о том, что концептуализм не столько пародирует, сколько, наоборот, утверждает скомпрометированные ценности. У Льва Рубинштейна было прекрасное эссе о том, как слова выводятся из оборота потому, что их нельзя произнести всерьёз, настолько они обесценены пропагандой. Например, слова «патриотизм» или «родина». Или даже слово «дружба» в какой-то советский период. Не настаёт ли, особенно у нас, в России, сейчас время нового концептуализма — и почему его, по всей видимости, нет?
Для формирования концептуализма нужен сильный идеологический дискурс. Или, во всяком случае, такой метанарратив, который осознавался бы обществом как властный, побеждающий. Нынешние потуги на идеологический или патриотический дискурс настолько жалки и неубедительны, что создавать на их основе концептуальные дразнилки или перекодировки нелепо. Та версия концептуализма, которая называлась соц-арт, изобретённая Комаром и Меламидом в 1973-м, или тот идео-арт, лидером которого был Дмитрий Александрович Пригов, вряд ли сейчас нужны и возможны. Но у концептуализма гораздо более широкий диапазон возможностей, он способен всё под себя «подгрести». Скажем, Владимир Сорокин, после того как отработал советский дискурс, стал работать с дискурсом русского психологического романа в своём романе, который так и называется — «Роман». А в 2006 году в своём «Дне опричника» он взялся за новейший дискурс — гибрид путинизма и правления Ивана Грозного, модель всей русской авторитарной и автаркической традиции от Средневековья до XXI века. Самое интересное, что Сорокин одновременно и выдумал этот дискурс, и его же спародировал. Он этот метанарратив создал, подарил его нам — и с ним же концептуально поработал. Путинизм, каким мы его знаем после 2012-го и особенно 2014 года, вышел из писательской лаборатории Сорокина.

Дмитрий Александрович Пригов. Память. 1987 год

Виталий Комар, Александр Меламид. Что делать. 1983 год
То есть Сорокин не столько предсказал будущее, сколько сконструировал его?
Новейшая идеология стала вбирать в себя концептуализм, как раньше концептуализм преломлял в себе советскую идеологию, — такая цепь рокировок. Причём именно концептуализм сформировал технику сгущения, радикализации любого дискурса и стал своего рода общим знаменателем разных идеологий на их пути к конвергенции. В XX веке марксизм, социал-демократия, большевизм, национализм, евразийство, религиозно-православная мысль, эзотерика, космизм не только различались, но и активно размежёвывались — а теперь они слились в экстазе. И когда Зюганов говорит о небесных церковных идеалах, которые воплощаются через торжество державности и социальной справедливости; когда Кургинян говорит о белом коммунизме, который вбирает в себя лучшее от христианства и буддизма; когда Дугин говорит о старообрядчестве, евразийстве, христианстве, древнеиндийской кастовости и нацистской геополитике, а Жириновский говорит сразу обо всём этом, да ещё впридачу о свободе капиталистического предпринимательства и о гордости великороссов, то это и есть крутой концептуалистский замес — вылитый Дмитрий Александрович Пригов, аранжированный на разные голоса. У Пригова был такой жанр — кричалки, когда он любой текст, от «Мой дядя самых честных правил» до «Но пасаран», доводил до такой громкости звучания, пронзительного, сверлящего визга, что хотелось заткнуть уши и убежать (некоторые и впрямь убегали с его перформансов). Этим, собственно, и занимаются современные российские идеологи. Этот дискурс — донельзя крутой, радикалистский, доведённый до гиперболы — самопародиен. Самые рафинированные эстеты могут смаковать выступления того же Жириновского или Дугина, потому что они клоуны — в какой-то степени опасные клоуны, но они притязают на лавры Дмитрия Александровича Пригова.
Само существование концептуализма в современной общественно-идеологической среде напоминает нам о том, насколько, по сравнению с советской эпохой, выродился правящий дискурс. Марксизм-ленинизм был угрюм, серьёзен, монолитен, и пародии на него приходили извне, от концептуалистов-диссидентов; а нынешний «государственнический», «патриотически-евразийский» и «державно-православный» дискурс сам себя передразнивает. Недаром Жириновского в своё время называли «постмодерным Гитлером». Но его можно назвать и вошедшим в роль, «заигравшимся» и «переигрывающим» Приговым.

Дмитрий Александрович Пригов и его проект «Банки», начало 1980-х. Архив медиатеки Государственного центра современного искусства
И всё же общество, как мне представляется, в последнее время возвращается в стадию реализма, вы не согласны?
С одной стороны, происходила идеологизация концептуализма, с другой — его сентиментализация, намеченная ещё в 1990-е у Тимура Кибирова. После классической, соц-артовской фазы, которая была выражена в 1970–80-е Приговым, Кабаковым, Комаром и Меламидом, наступила пора новой искренности, или новой сентиментальности. Это «сброс» предыдущих, омертвевших значений, очищение слов и их возвращение в виде какой-то неизбежности. Мы знаем, что такие слова, как «любовь», «душа», «ностальгия», «тоска» и прочие, употреблялись уже миллиарды раз, ничего нового здесь мы не скажем. Их можно заключить в миллиарды кавычек, потому что, как говорил Бахтин, каждое слово, которое мы употребляем, уже кем-то произносилось раньше, и если бы мы стремились к максимальной точности, мы должны были бы все слова закавычивать, причём многократно. Концептуализм так и делал в 1980-е. А потом вдруг произошёл какой-то вздох, наступило освобождение — слушайте, а чего это мы столько иронических кавычек понаставили? Давайте их сбросим. И оказывается, что все эти слова с отброшенными кавычками, сохраняя старый, приобрели и какой-то новый смысл. Да, мы понимаем, что «любовь» — это не ново, что «жизнь», «смерть» и «свобода» — затасканные, скомпрометированные слова, но у нас же нет других. Кстати, Тимур Кибиров, да и сам Пригов, выдвинувший теорию «новой искренности», имели в виду именно мерцательную искренность: мы не знаем, насколько автор отчуждает себя от своего текста и насколько он присутствует в нём; насколько он лирик, а насколько ироник. Дистанция между автором и текстом подвижна и непредсказуема. У Кибирова это сказалось особенно убедительно, например в поэме «Сквозь прощальные слёзы» и в «Послании Л. С. Рубинштейну». «Осенённые листвою, / небольшие мы с тобой. / Но спасёмся мы с тобою / Красотою, Красотой! / Добротой и Правдой, Лёва, / Гефсиманскою слезой, / влагой свадебной багровой, / превращённою водой!»
Прямо-таки евангельская проповедь. «Устарелые» слова, скомпрометированные множеством идеологий, метанарративов: «правда», «красота», «доброта», — здесь не только возвращаются, но и пишутся с большой буквы. Это своего рода вызов концептуализму — но изнутри него самого. Кибиров как бы снимает все кавычки, и душа предстаёт, с одной стороны, в своих самых традиционных возвышенных устремлениях, а с другой стороны, она всё это уже пережила: и усталость от этих слов, и их повторяемость, их занудность, цитатность… А других слов всё равно нет. Этот жест усталого возврата к сверхсловам наблюдается уже в постконцептуалистской культуре.

Тимур Кибиров, Лев Рубинштейн, конец 1980-х. Из архива Льва Рубинштейна
Говоря о «новой искренности»: это словосочетание сегодня часто используется в значении «новой серьёзности», моралистического подхода к культуре. От дискуссий, которые сейчас разворачиваются в соцсетях, например, вокруг проекта Ильи Хржановского «Дау», остаётся впечатление, что люди говорят на разных языках и не могут друг друга понять. Половина участников дискуссии стоит на традиционной позиции, что искусство судится по законам искусства, что ни философ, ни писатель, ни творец не может ставить своей мысли заслонки, что он должен быть свободен в своём творчестве. А другая половина полагает, что методы создания искусства неотделимы от его содержания и жанровой природы. Как вы бы определили жанр «Дау» в этом контексте?
Подобно врачу, физиологу, патологоанатому, художник имеет право приоткрывать самое уродливое и отвратительное в человеке. А эпоха, избранная Хржановским, — это целый букет патологий, тут и социопатия, и психопатия, и сексопатия, так что моральное негодование и упрёки следует адресовать не ему. Что касается жанра, то определение «многосерийный фильм» мне кажется слишком узким. «Дау» — это вообще не вполне кино. По традиции мы обсуждаем жанры внутри какого-то вида культуры: литературные, музыкальные, театральные, кинематографические, научные, деловые — роман, симфония, фильм, доклад, монография, рапорт и т. п. А возможно ли произведение в жанре целой культуры? Культура в себя вбирает и музыку, и кино, и литературу, и живопись, и науку, и делопроизводство, все способы общественного поведения и межличностной коммуникации. Хржановский создал произведение в жанре культуры 1930–60-х. Для этого он построил огромный павильон в Харькове, провёл 50 тысяч человек через кастинг и т. д.
Оригинальный ли это жанр? Не совсем. Первым произведением в жанре культуры была сама советская культура, создававшаяся как единый утопический проект, по общему плану, с участием всех искусств, наук, производств, законов, со своими авторами, сценарием, режиссёрами, исполнителями. В этом особенность тоталитарной культуры — она создаётся как единое произведение, в отличие от традиционной, западной культуры, которая есть лишь производная от разрозненных усилий художников, писателей, учёных. Все они работают в своих областях, поэтому разные науки и искусства достигают в этой «неплановой» культуре высочайшего уровня самостоятельного развития. А если культура строится как целостное произведение, со своей идеей и сюжетом («коммунистическое строительство», «единство партии и народа»), то качество отдельных её компонентов — художественных, научных, промышленных, юридических — не имеет особого значения, главное, чтобы была достигнута целостность, «тотальность» самого произведения, подчинённого единому замыслу. Поэтому не удивительно, что столь тотальное произведение в жанре целостной культуры, как «Дау», было построено на основе первого опыта тоталитарного культурного строительства, советского, — как его уменьшенная, концептуальная реплика. Там тщательно воспроизведено всё — интерьеры, одежда, еда, — но это такой же реализм, как социалистический реализм. Это реализм только для того, чтобы показать, как можно всю реальность переработать в каком-то идеологическом или концептуальном ключе. Поэтому играющие в фильме «Возвращение блудного сына» режиссёр Анатолий Васильев и Теодор Курентзис, переносясь в 1930–40-е годы, употребляют такие слова, как «креатив», «креативщик»; да и вообще очевидна здесь игра, пародия, дистанция по отношению к изображаемому времени. Недаром Владимир Сорокин был приглашён как автор сценария; но когда проект вышел за рамки кино и расширился до жанра «культуры как таковой», сценарий уже не понадобился. Сорокин рассказывал, как ещё в конце работы над предыдущим проектом, фильмом «4», спросил Хржановского: «Илья, объясните, что вы хотите?» Он ответил: «Я хочу, чтобы там было вот, ну это, как бы… вообще ВСЁ!» Тогда я сказал: «Илья, это не ко мне. ВСЁ — я не могу». На том и расстались». Вот это «ВСЁ» и есть обозначение жанра «Дау». Или, по оценке Сорокина, «постсовок вставил Совку». Тотальность концептуальная — в ответ на тотальность советскую.
Вообще это огромный вопрос: возможно ли осваивать жанры самой культуры, а не отдельных искусств или наук? Мне самому знакома эта проблематика по моим попыткам сочинять в жанре языка. Не речи, а языка. Потому что понятно, что такое «произведение речи» — это роман, рассказ, стихотворение, научная статья, любое высказывание... А что значит создавать произведение «в жанре языка»? Писать язык?

Анатолий Васильев и Теодор Курентзис в фильме Илья Хржановского и Анатолия Васильева «Дау. Империя: Возвращение блудного сына»

Кадр из фильма Ильи Хржановского «Дау»
Заниматься словотворчеством. И это ведь важная область ваших занятий?
Я этим занимаюсь уже 20 лет в сетевом проекте «Дар слова. Проективный лексикон русского языка». Сегодня вышел очередной номер рассылки, 468-й. Туда вошли актуальные слова на тему пандемии. Например, слово «зумби» (ср. зомби) — это люди, одержимые общением через зум. Или «паникономика» — экономика в состоянии паники. Там и словосочетания предлагаются, новые фразы. Например, «довирусная эра», «поствирусная эра». Я слежу, есть ли такие слова и словосочетания в «Гугле», и если их ещё нет, выкладываю в «Даре слова». Это такое метатворчество, которое вводит в поле творческого процесса то, что обычно является его условием. Нам нужен язык, чтобы писать роман или стихи. А кто пишет сам язык? Что, если мы расширим творческое целеполагание до самого языка? Как это делал Велимир Хлебников — или в значительной степени Владимир Даль в своём словаре «живого великорусского».
Даль, насколько мне известно, образовывал от существующих русских корней ряд собственных слов и тишком вписывал их в словарные статьи как существующие.
Совершенно верно. Считается, что Даль — верный «дескриптор» русских говоров. На самом деле он ещё и сочинитель, языкотворец: примерно 14 000–15 000 слов собственного сочинения он «впихнул» в свой словарь. Например, в гнездо «СИЛА» Даль вносит, помимо общелитературных и диалектных, ещё и ряд слов без помет: силить, силовать, сильноватый, сильность, силенье, силованье, сильнеть, силоша, силован, силователь, сильник. Ни одного из этих слов нет в «Словаре церковно-славянского и русского языка, составленном Вторым отделением Академии наук» (114 749 слов), который вышел в 1847 году, за 16 лет до первого издания далевского словаря. Вряд ли все эти слова вдруг разом вошли в язык за такой короткий промежуток времени, скорее это словообразовательный ряд включает потенциальные единицы, типические образцы возможных словообразований. Но эти придуманные слова Даль никогда не ставил в заглавие статьи, они всегда там контрабандой, потому что всё-таки это была эпоха реализма, позитивизма, он не смел так откровенно подавать свои изобретения в виде явлений самого языка. Он их стыдился и прятал вглубь гнёзд. Хлебников, наоборот, очень дерзко выставлял свои слова-фантазии, не считался с обыденным, повседневным языком — он создавал особый, «звёздный» язык для посвящённых. Поэтому из его слов тоже почти ничего не вошло в язык (может быть, «ладомир», «будетлянин», «творянин»). Даль в этом смысле работал с языком как позитивист, Хлебников — как авангардист. Мой проект — постмодернистский, я создаю такие слова, какие могли бы существовать внутри языка, но будут они востребованы или нет — зависит от языкового сообщества. В отличие от Солженицына, который в своём «Словаре языкового расширения» в конспективном виде воспроизводит словарь Даля и полюбившиеся ему слова Лескова и других писателей, моя задача была именно в том, чтобы воскрешать не субстанции старых слов, а энергию корня. Корень может обрастать новыми приставками, суффиксами, новыми значениями...

Велимир Хлебников

Владимир Даль. Портрет работы Василия Перова. 1872 год. Государственная Третьяковская галерея
Понятно, что в язык постоянно входят неологизмы для описания новых реалий. Иногда — благодаря индивидуальным усилиям одного человека, какой-нибудь княгини Дашковой, которая не только слова, а и букву «ё» ввела в русский язык. Но при этом тексты Дашковой или Екатерины II испещрены словами, которые абсолютно не вошли в язык. А Карамзин придумал множество слов, вроде «чувствительности», которые нами повсеместно используются. Много ли в истории примеров такого успешного словотворчества?
Недавно вышел юбилейный выпуск «Дара слова» (первый выпуск вышел 17 апреля 2000 года). Там приведены самые успешные слова, созданные русскими писателями, и самые частотные слова самого «Дара» — по числу случаев их употребления (сайтов/страниц). Например, «созвездие», «чертёж» Ломоносова; «промышленность» и «трогательный» Карамзина; «нимфетка» Набокова, «образованщина» Солженицына. У Салтыкова-Щедрина несколько слов сделало головокружительную карьеру: «злопыхатель», «головотяп», «благоглупость». Из моих почти трёх тысяч слов, опубликованных в «Даре», некоторые можно обнаружить на сотнях или десятках тысяч сайтов (поиск на «Гугле»). Приведу ряд примеров. Слово «совок» в значении «советский человек» (впервые — в моей книжке «Великая Совь», 1984–1988). «Брехлама» — реклама как брехня и хлам. «Любля» — чувственная любовь. «Люболь» — любовь как боль. «Злобро» — добро, которое оборачивается злом. «Общать» (кого) — вовлекать в процесс общения. «Осетить» (что) — опубликовать, вывесить в Сети. «Чеlovек» — человек как вместилище любви (сочетание кириллицы и латиницы). «Соворность» — современный вариант соборности, когда все повязаны круговой порукой коррупции: если не воруешь, ты не свой.
Но «Дар слова» — это не только о новых словах, но и о новой грамматике, о синтаксических конструкциях. Например, лет 15 назад я предложил расширительное употребление конструкции с предлогом «о». «О чём ты живёшь? О чём мы будем путешествовать? О чём твой день рождения?» У любого действия или события может быть своя тема, «о чём оно». Любое действие — это своего рода высказывание или разговор. И вот сейчас, я замечаю, такое расширенное употребление входит в язык.
Можно ли выделить какую-то закономерность, благодаря которой новые слова оказываются успешными?
Нет законов, по которым одно слово начинает жить, а другое — нет. Прогнозировать выживание слова невозможно. Считается, что должно пройти 40 лет, два поколения, прежде чем аттестовать данное слово как вошедшее или не вошедшее в язык. Надо заметить, что у заимствованных слов, как ни странно, больше шансов на выживание. Русский язык больше любит чужие слова, чем собственные, любит заимствовать, а не придумывать. Так же как и в других областях. Пушкин писал: «переимчивый Княжнин». Переимчивость в природе русской культуры, в том числе и сам Пушкин был весьма переимчив. В «Даре слова» примерно 90% новых слов образовано от русских корней, однако, должен признать, скорее приживаются созданные на основе международных корней (греческих, латинских): такие термины, как «экофашизм», «гуманистика», «метареализм», «транскультура», «видеология», «видеократия», «ноократия», «поп-религия», «эротикон», «хроноцид»... Впоследствии я собрал все эти понятия в «Проективном словаре гуманитарных наук». Из 55 слов «Дара», которые оказались самыми частотными, 30 — слова с международными или иностранными корнями. Как ни грустно, должен отметить, что русский язык не любит выращивать свои собственные слова, а предпочитает взять готовую лексему и морфологически её приспособить. Иностранные слова — более престижные, авторитетные. Да и более чёткие по значению.

«Homo Scriptor» — сборник статей и материалов к 70-летию Михаила Эпштейна — выпущен в этом году издательством «Новое литературное обозрение» под редакцией Марка Липовецкого
Как, на ваш взгляд, меняется русский литературный канон? Вы, например, писали о «пошлости Чехова». Меняет ли это соображение ваше отношение к Чехову?
У нас классики воспринимаются как культовые фигуры, у которых нельзя находить ни малейшего изъяна. Разве может Чехов быть пошлым, а Пушкин — сам Пушкин! —- допускать какие-то ошибки или безвкусицу? Но мне, например, в стихотворении «Из Пиндемонти» кажутся аляповатыми, напыщенными четыре сверхэмоциональных эпитета, наложенные друг на друга: «трепеща радостно в восторгах умиленья» (и может быть, почувствовав эту избыточность, Пушкин оборвал стихотворение на середине следующей строки). Таков средневековый, религиозный посыл русской культуры — обожествлять, сакрализовать, и на мой взгляд, доза секулярного, здравого смысла и даже иронии в оценке классиков не повредила бы. Возвращаясь к Чехову: в апреле вышла в «Новой газете» моя статья «Герой нашего времени — человек в футляре». Это тоже опыт прочтения Чехова, но глазами человека периода коронавируса. Это немного пародийный подход, но, на мой взгляд, оправданный: Беликов, «человек в футляре», сейчас воспринимается как сознательный гражданин, который пытается оградить себя и других от вредного и смертоносного влияния среды. Если бы Беликову с его галошами, зонтиком, чехольчиками добавить ещё перчатки и маску, то он стал бы героем нашего времени. «Футлярность» оказывается социальным императивом. Те приметы социопатии, мизантропии, которые Чехов сатирически преподнёс в Беликове, сейчас оказываются нормой самоизоляции, и в этом вывернутость наизнанку, иномерность нашего нынешнего существования. И наоборот, Марина Цветаева, главный российский романтик XX века, в «Крысолове» обрушивается на «любителей чехлов», главный герой её поэмы — «чехолоненавистник» и «футлярокол», который «со всего и все / В мире — чехлы срывает!». Этот романтизм и утопизм, срывание всяческих масок и оболочек, конечно, звучит очень «негигиенично» в наше время! Это пример того, как классика, если она живая, может по-новому перечитываться буквально изо дня в день.
А что вы можете сказать о новых источниках фразеологии и меметики?
Для меня источником культурного кода остаётся русская литература XIX и XX веков, хотя я допускаю, что для младших поколений она уже вышла из референтной группы. Даже эссеистика на злобу дня (почти публицистика) у меня замешана на русской классике. Например, после аннексии Крыма я написал эссе «От совка к бобку. 2014 год в предсказании Достоевского», где использовал некоторые мотивы из Достоевского, в частности сжигание Настасьей Филипповной пачки в 100 тысяч рублей, для размышления над тем, что случилось с Россией в этом несчастном историческом эпизоде. А бобок (по его одноимённому рассказу) — это персонификация постсоветского человека, который говорит из могилы, как покойники на кладбище: «…Проживём эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!»

Иллюстрация Кукрыниксов к рассказу Антона Чехова «Человек в футляре», 1940-е
Kак воспринимают современную русскую культуру на Западе?
Вообще Запад очень чувствителен к разным проявлениям национальной специфики. Казалось бы, у России другая культура — интересуйтесь ею. Она не такая, как западная, читайте, смотрите — но нет: равнодушие настолько глубокое, что даже для злости (на агрессивность кремлёвской политики) не остаётся места. Западу интересны незападные, «экзотические» культуры — азиатские, африканские, латиноамериканские. И, конечно, своя собственная культура. А Россия — это и не Запад, и не «не Запад». Это, в восприятии Запада, что-то рыхлое, тягучее, бесформенное, не поддающееся какому-то оригинальному определению ни в качестве «своего», ни в качестве «другого». Русская культура в XIX веке — литература, музыка — стала оформляться, вбирать в себя западный художественный вкус и гений формы. «Анна Каренина» и «Преступление и наказание», чеховские рассказы... Хотя даже и тогда форма была не самой сильной стороной русской культуры. «Война и мир», «Братья Карамазовы» — это композиционно расползается, но очень духовно, грандиозно, сверхнасыщенно... А потом этот гений формы опять ушёл — в связи с тем, что Россия замкнулась от Запада. Есть очень интересные, глубоко содержательные авторы, произведения, но русская литература не обрела своей формы. Небольшое по объёму, но хорошо выстроенное произведение, которое понуждало бы себя читать от первой до последней страницы, — таких очень мало. «День опричника» Сорокина, на мой взгляд, ближе всего к такому формату. Какое последнее художественное произведение имело действительно большое влияние на Западе? «Один день Ивана Денисовича» — выстроенное, компактное, на 60 страницах всё сказано.
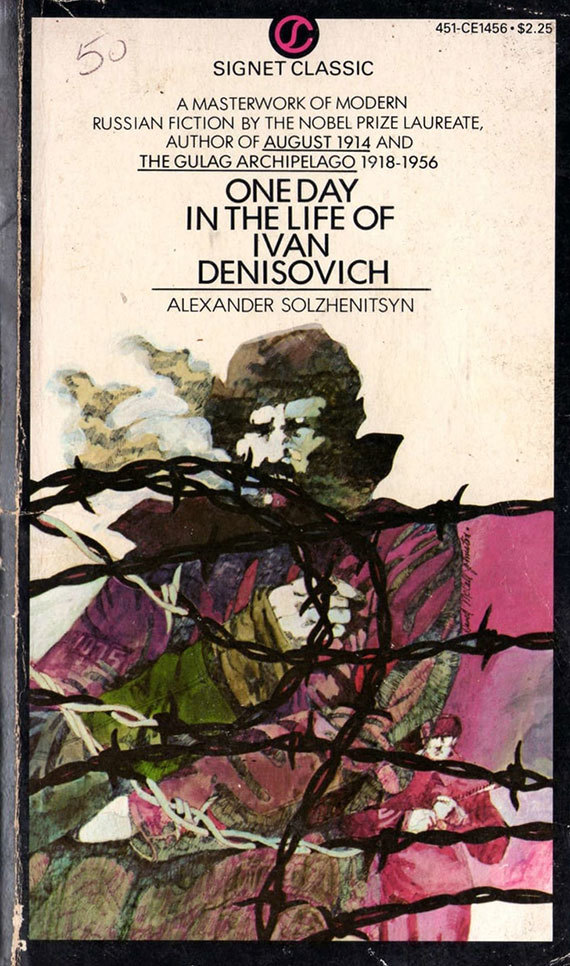
Александр Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Издательство Signet Modern Classic, 1963
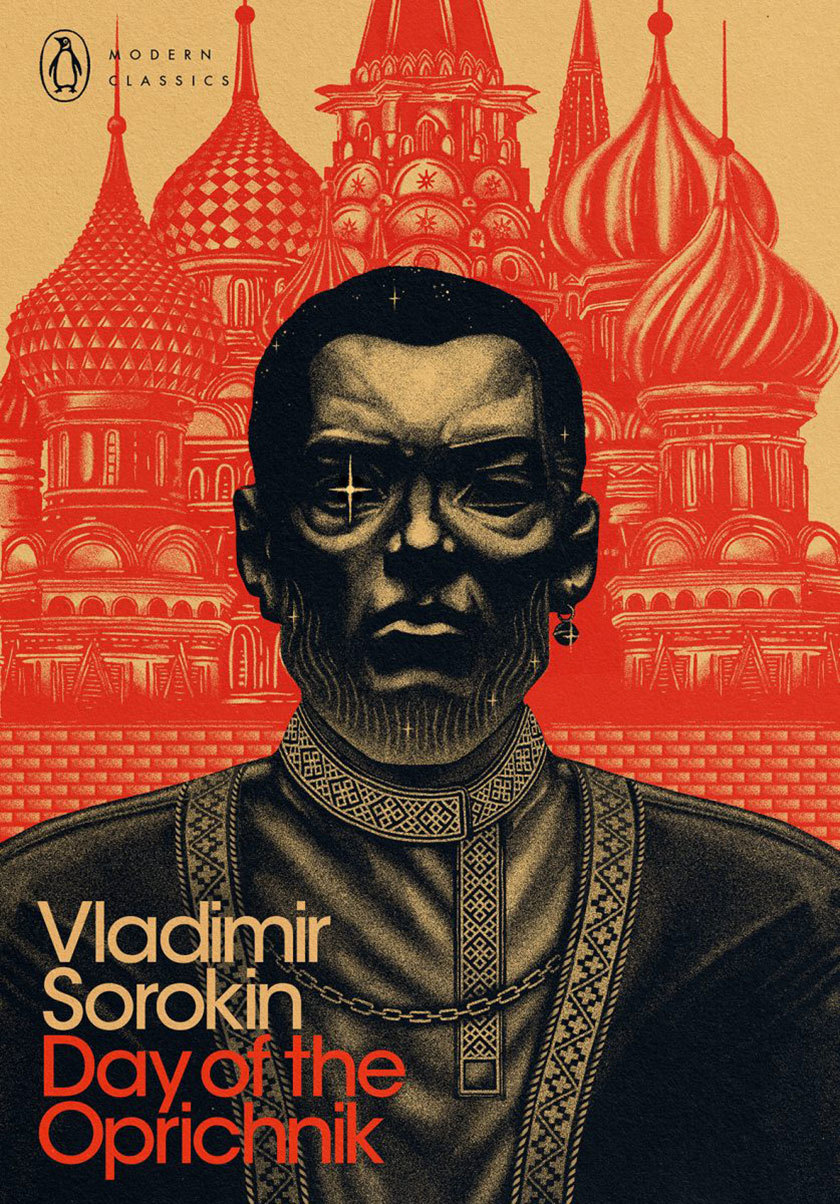
Владимир Сорокин. День Опричника. Издательство Penguin Modern Classics, 2018
Вы писали, что собственная культура постигается путём отстранения и что Гоголь не мог бы написать «Мёртвые души» в России — не случайно он писал их за границей…
И Достоевский так писал, и Тургенев!
А вы поняли что-то новое о русской культуре, остранив её?
Надеюсь, что да. Я прожил в России почти 40 лет, никуда не выезжая. И многое из того, что я понял о России, — это вторичная рефлексия, потому что, как ни банально, всё познаётся в сравнении. И своеобразие русской культуры тоже началось с акта саморефлексии, когда она смогла посмотреть на себя глазами других культур. Россия до Петра — Московия — была культурно инертной, и ничего там, за редкими исключениями, не происходило — ну в монастырях что-то переписывали. Об этом Георгий Флоровский говорит в «Путях русского богословия» — о безмолвии русской мысли: «Эта невысказанность и недосказанность часто кажется болезненной». Как только Россия открылась Западу, всё изменилось: XVIII век — это уже век интересного, энергичного подражания, а XIX — это рождение оригинальной культуры. Для развития языка, культуры требуется двуязычие, двукультурие. Без знания, хотя бы условного, какого-то иностранного языка свой язык тоже не очень хорошо чувствуешь и понимаешь. И то обстоятельство, что русские писатели XIX века — и Пушкин, и Тургенев, и Толстой — великолепно владели французским и другими иностранными языками, резко заостряло их чувство родного языка. А когда в XX веке, после революции, писатели поневоле оказались в изоляции, остались наедине с русским языком, да ещё в виде советского новояза, мера их свершений тоже страшно понизилась.
Культура размножается перекрёстным опылением на уровне идей и при этом углубляет собственный язык за счёт отстранения.
Да, безусловно.
Что же, спасибо интернету.
Источник: polka.academy