Жан-Поль Сартр: преследующий Бытие
МЕНЮ
Искусственный интеллект
Поиск
Регистрация на сайте
Помощь проекту
ТЕМЫ
Новости ИИ
Голосовой помощник
Городские сумасшедшие
ИИ в медицине
ИИ проекты
Искусственные нейросети
Слежка за людьми
Угроза ИИ
Компьютерные науки
Машинное обуч. (Ошибки)
Машинное обучение
Машинный перевод
Реализация ИИ
Реализация нейросетей
Создание беспилотных авто
Трезво про ИИ
Философия ИИ
Генетические алгоритмы
Капсульные нейросети
Основы нейронных сетей
Распознавание лиц
Распознавание образов
Распознавание речи
Техническое зрение
Чат-боты
Авторизация
2019-04-08 22:15

Попробуем поговорить об экзистенциализме Жан-Поля Сартра (1905–1980) и его философском Opus Magnum «Бытие и Ничто».
После необычайной популярности и восторгов по поводу французского экзистенциализма (Сартр и Камю) в 1940–1960-х годах наступило охлаждение — что закономерно. Но если непосредственно в философии, например, учению Мартина Хайдеггера при всех скандалах по поводу «Черных тетрадей» и так далее никто в значимости, оригинальности и влиянии не откажет, то на Сартра маститые философы сейчас вешают ярлыки вроде «вторичен» (по отношению к Хайдеггеру), «тупиковый проект», «дутая фигура». Также много раз я слышала от коллег-философов, что читать «Бытие и Ничто» невозможно, а так потрясшее откровение романа «Тошнота» здесь превращено в ужасное занудство. Разумеется, литературное произведение должно впечатлять сильнее, но никто «занудством» почему-то не назовет «Бытие и Время» Хайдеггера, а скорее скажет: «Я не понимаю, но это мои проблемы». Вряд ли здесь уместна апологетика в отношении Сартра; мы постараемся избежать пафосных фраз об абсолютной свободе выбора и трагической ответственности, об абсурде и хаосе бытия — лишь попробуем именно с точки зрения философской метафизики выяснить, действительно ли Сартр «пережил свою земную славу», как говорили при его жизни, например, структуралисты.
Но вначале следует сказать несколько слов о самом понятии «экзистенциализм». Этот термин, столь популярный не только в философии, но и в европейской культуре середины ХХ века в целом, определить чрезвычайно трудно, тем более что «экзистенциалистом» из мыслителей этого направления называл себя только сам Сартр в работах 1940– 1950-х годов. Не объединяем ли мы в этом случае по собственному произволу мыслителей, которые не пожелали назвать себя этим именем? Полагаю, что скорее, говоря «экзистенциализм», мы чаще всего подразумеваем «экзистенциальная философия». Последнее понятие гораздо шире и не предполагает четко фиксированной программы, кредо, понятийного аппарата, строгой преемственности и так далее. Представители этого течения — крайне редко именующие себя экзистенциалистами! — прослеживают свою философскую родословную от святого Августина, Монтеня, Паскаля, Шеллигна, Кьеркегора, Достоевского. В течение ХХ века к этому направлению относили столь несхожих между собой авторов, как Мартин Хайдеггер, Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, Карл Ясперс, Габриэль Марсель, Мигель де Унамуно, Хосе Ортега-и-Гассет, Николай Бердяев, Лев Шестов, Мартин Бубер, Франц Розенцвейг, Никола Аббаньяно, Пауль Тиллих, Карл Барт, Рудольф Бультман, и многих других.
На первый взгляд, характеристики течения весьма разнообразны. Скажем, Марсель и Сартр, как и многие другие из названных мыслителей, едва ли могли бы прийти к согласию хотя бы по одному важному вопросу. Следовательно, определять «экзистенциализм» (экзистенциальную философию) посредством набора философских формул было бы ошибочным. Любая формула, достаточно объемная для описания всех тенденций экзистенциального философствования, может оказаться пустой и бессодержательной для конкретного примера. Как же в такой ситуации возможно выстроить «генеалогическое древо» экзистенциальной философии? И можем ли мы вообще выбрать некую метапозицию для анализа этого течения? Скорее всего, да, и эта позиция может выглядеть примерно так: существуют несколько повторяющихся тем, не обязательно связанных друг с другом, однако в истории мысли попадающих в некую общность. Эти темы таковы: 1) личность и система; 2) интенциональность сознания; 3) «временность» сознания, 4) бытие и ничто; 5) абсурдность; 6) свобода 7) природа и значение выбора; 8) роль пограничного опыта (пограничной ситуации); 9) отчуждение; 10) смысл и значение коммуникации.
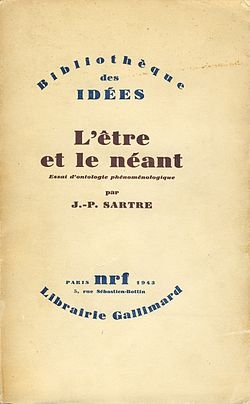
Над большим и сложным произведением «Бытие и Ничто» Сартр, по его воспоминаниям, работал с 1930 года — 13 лет. Но сам текст был написан за 2 года — с января 1940 года. Книга вышла в 1943 году в оккупированном Париже. На протяжении 1935–1936 годов Сартр слушал лекции Александра Кожева в Практической школе высших исследований (?cole pratique des hautes ?tudes) в Париже. Среди слушателей Кожева были те, кто сделается «властителями дум» после войны: Жорж Батай, Жак Лакан, Морис Мерло-Понти, Раймон Арон, Раймон Кено, Пьер Клоссовски, Андре Бретон, Ханна Арендт. Кожев интерпретировал учение Гегеля о негативности, развивая дуалистическое учение о бытии и ничто («бытии-в-себе» и «бытии-для-себя») и о свободе как негативности; он противопоставляет мир свободы и истории неизменности и самодостаточности природы. Это легло в основу метафизики Сартра. Книга Хайдеггера «Бытие и Время» вышла в 1927 году, но был ли Сартр с ней знаком до 1933 года — неизвестно. В 1933–1934 годах Сартр стажировался в Германии. Первый год он провел в Берлине, второй — во Фрайбурге. Он скрупулезно изучал труды Хайдеггера, Ясперса, Шелера, Кассирера, Фрейда и многих других. Но вот его знакомство с трудами Эдмунда Гуссерля началось раньше — еще в ?cole Normale в 1924 году.
Философию Сартра в 1930–1940-е годы можно назвать «поиском Бытия». Нельзя сказать, чтобы в свою эпоху он был очень оригинален в этом стремлении. Крен в сторону гносеологии во второй половине XIX — начале ХХ века (неокантианство, эмпириокритицизм, прагматизм, феноменология и другие) породил всплеск интереса к онтологии в первой половине ХХ века — от «царств бытия» Дж. Сантаяны до «фундаментальной онтологии» Хайдеггера и «Систематической теологии» Тиллиха. Мы помним, что Хайдеггер в начале «Бытия и Времени» повторял словно заклинание: «Вопрос о смысле бытия должен быть поставлен. … О смысле бытия вопрос должен быть поставлен. … Вопрос о смысле бытия следует поставить заново» [1 ]. Думаю, здесь мы все-таки можем говорить скорее о некоей конгениальности Сартра и Хайдеггера, но не об интерпретации и тем более о вторичности. Они оба стремились превратить феноменологию Гуссерля из методологической программы в онтологию.
Попробуем выяснить, что же такое принципиально новое внес Сартр в метафизику [2 ]. Классическая западная философия исходила из признания либо тождества, либо изоморфности «строения» человека и предлежащей ему природы, обеспечивающих гармонию «общего» и «единичного». У философов Античности это выражалось во взгляде на человека и внешний мир как на соответствующие друг другу микрокосмос и макрокосмос, а в Новое время — в утверждении строгого параллелизма мыслящей и протяженной субстанций (Декарт) или мыслящего и протяженного атрибутов единой субстанции (Спиноза), в учении о предустановленной гармонии (Лейбниц), в учении о тождестве бытия и мышления (Гегель) и так далее. Строилась некая картина мира. Культурная и «божественная» инстанции выступали в этом случае либо в форме всеобщего и необходимого знания и всеобщего нравственного закона (Кант), либо в форме философии, которую Гегель трактовал как науку наук, а также восходящих к этическому рационализму Сократа систем объективных ценностей, воплощавших в себе совершенное бытие. Наивысшего выражения взгляд на человека как на часть природы, наделенную разумом, нашел в философии французского Просвещения. Затем, в XIX веке, — позитивизм, боровшийся с «бесплодной метафизикой», бунтарство Кьеркегора во имя Единичного, нигилизм Ницше.
Из «далеких» мыслителей Сартр сражался в основном с Декартом, а из «близких» — с неопозитивистами и спиритуалистом Леоном Брюншвиком, сводившим бытие человека к универсальной мыслительной способности («дух-паук», обволакивающий паутиной предметы и «проглатывающий» их, «пищеварительная философия», по Сартру). Общим как для позитивистов, так и для спиритуалистов, по его мнению, было растворение единичного во всеобщих определениях «человеческой природы», взятой в одном случае в ее телесном, а в другом — духовном измерении.
Построение истинной онтологии сознания и человеческого бытия, то есть выявление их смысла и структур, должно, по мысли Сартра, осуществляться, исходя из совершенно иного понимания сознания и бытия и их взаимоотношения, чем это было в предшествующей философии. Классическое, принятое в западной философии отношение бытия и мышления, природы и духа, материи и сознания, объекта и субъекта, мира и человека, внешнего и внутреннего, означаемого и означающего, неразумного и разумного, природного и искусственного, реального и виртуального переносится Сартром в плоскость двух «регионов» бытия (таким образом он пытается преодолеть дуализм): «бытия-в-себе» и «бытия-для-себя». «Бытие-в-себе» и «бытие-для-себя» отнюдь не являются спецификациями «бытия вообще»: бытие для Сартра изначально существует в этих двух ипостасях.
В нескольких словах. «Бытие-в-себе», по Сартру, «нерасчлененно, плотно, массивно и компактно», оно есть абсолютная пассивность; оно есть то, что оно есть, не более того; к нему неприменимы никакие определения; оно неразличимо, недифференцировано, лишено качественной и количественной определенности, самодовлеюще и самодостаточно, не заключает в себе различия на «это» и «иное». Бытие (бытие-в-себе) являет себя как вещество, как голая материальность. Оно ощущается как нечто плотное, массивное, но мягкое и вязкое, тяжелое и обволакивающе навязчивое, непролазное, как болотистые дебри [3 ]. Это означает, что именно сознание («бытие-для-себя») все привносит в мир: дискретность, множественность, каузальность, изменчивость, движение, количество, качество, форму, пространство, время (и, соответственно, смерть), смысл, добро, зло, целеполагание и так далее. Соответственно, все исходит от сознания, субъекта. (Сказанное относится в полной мере только к «зрелому» периоду творчества Сартра — начиная с работы «Бытие и Ничто».) Возникает вопрос: не аналогичны ли эти понятия трансцедентальным категориям Канта? Полагаю, коррелятивны, но не аналогичны. Сартр, как и Гуссерль, не чужд трансцендентализма, но для него, в отличие от Канта, как мы увидим, возможен выход за пределы трансцендентального сознания.
Сознание, «бытие-для-себя», определяя мир, одновременно выделяет себя из мира; оно каждый раз заново определяет себя в своем действии. Оно никогда «не есть то, что оно есть, и есть то, что оно не есть» [4 ] и всегда выступает как «проект». Человеческая реальность отлична от мира, она не может быть вещью. Такая онтология позволяет Сартру утверждать, что в мире есть свобода благодаря присутствию в нем «бытия-для-себя», Ничто — то есть человека: сознание, не будучи «чем-либо» в мире, обречено на свободу, поскольку всегда выбирает себя само, решает, чем ему быть, не имея опоры ни вне, ни внутри себя. Сартр пишет: «Свобода — это как раз то Ничто, которое содержится в сердце человека…» [5 ]

Здесь мы должны коснуться (увы, лишь коснуться) огромной темы: Ничто как формально-логическое понятие и Ничто как онтологическое понятие. Первая стратегия восходит, собственно, к Пармениду («есть бытие, а ничто не есть») и прослеживается до аналитической философии. Она утверждает происхождение ничто из формального отрицания: источником ничто являются негативные суждения. В другой же стратегии (Платон и неоплатоники, христианская апофатика и мистика, Шеллинг, Гегель и так далее, не говоря уже об адвайта-веданте, даосизме, мадхьямаке) Ничто (дао, шунья, брахман, Бог, Абсолют) является ключевой категорией онтологии, оно представлено как абсолютное, бесконечное, непостижимое. Вопрос Хайдеггера «Почему вообще есть сущее, а не скорее Ничто?» знаменует начало радикального поворота западной метафизики к Ничто. В секулярной западной философии Ничто выступает прежде всего как человеческое сознание. У Сартра Ничто выступает как в формально-логическом аспекте (сознание все определяет и тем самым отрицает), так и в онтологическом.
Опыт свободы, по Сартру, есть опыт радикальной оторванности от «устойчивого» существования. Всякий раз человек сам выбирает и себя и тот мир, в котором он оказался. Получается, что это мгновенное творчество лишается какого бы то ни было связующего принципа и рассыпается в ничем не связанное множество отдельных актов. Но тогда как возможна самоидентификация? Почему Сартр — это все же Сартр, а не Мао Цзэдун, которого он так высоко чтил, или не парижский клошар?
Здесь, как ни странно, на помощь Сартру приходит Декарт. Да, Сартр боролся с картезианской традицией и отрицал мыслящую субстанцию. Но в статье «Картезианская свобода» (1957), предисловию к собранию сочинений Декарта, он предпринимает попытку экзистенциалистского «прочтения» Декарта. Исходный пункт философии Декарта — методическое сомнение — интерпретировался Сартром как способность сказать нет, как неантизирующая деятельность, как свобода [6 ]. А в «Бытии и Ничто» Сартр пишет: «Этой возможности для человеческой реальности выделять „ничто“, которое ее изолирует, Декарт вслед за стоиками дал имя „свобода“» [7 ]. Поэтому объединяющим деятельность сознания принципом у Сартра оказывается перманентность отрицания. Декарт писал: «Ум, который, пользуясь присущей ему свободой, предполагает, что не существует ничего из вещей, относительно существования коих он не может не питать хоть малейшее сомнение» [8 ] («Размышления о методе»). Сартр перефразирует Декарта: «Я отрицаю — следовательно, существую». Освобождение человека мыслится Сартром как «способность к самоизоляции». Если «бытие-в-себе» самотождественно и самодостаточно, то, по Сартру, «самость представляет собой способ не быть совпадением с самим собой, ускользать от тождества» [9 ].
Итак, по Сартру, чистое, тотально пустое, равное Ничто сознание и противостоящее ему «бытие-в-себе» составляют априорную онтологическую «рамку», внутри которой сартровский человек деконструирует (в терминологии его неблагодарных младших родственников) свою субъективность.
Многие исследователи считают творчество Сартра неким синтезом гуссерлианства и хайдеггерианства. С этим можно согласиться лишь отчасти [10 ]. То, что отличает Сартра от Хайдеггера — введение в человеческое бытие инстанции «я мыслю», различие, на котором настаивает Сартр в «Бытии и Ничто». Что касается Гуссерля, его влияние на Сартра, несомненно, более глубоко, чем влияние Хайдеггера.
Гуссерль разработал понятие феноменологической редукции, которая характеризовала именно те цели и процедуры феноменологического метода, которые выполняли по преимуществу «критико-очистительную» функцию на пути к собственно феноменологическому анализу «чистого сознания» и его феноменов. На протяжении жизни Гуссерля трактовка феноменологической редукции в его произведениях менялась. На ранних этапах (например, «Пять лекций по феноменологии») внимание сосредоточено именно на редуцировании, воздержании (феноменологическое эпохе?) от типичных для традиции или современности суждений о сознании, познании и так далее, прежде всего натуралистических и историцистских. В более поздних произведениях Гуссерля центр тяжести переносится с негативно-очищающих процедур на многослойные и многомерные процедуры «конституции», то есть творческого воспроизведения сознанием мира.
Отношение к процедуре феноменологической редукции среди последователей было довольно противоречивым. Например, Мерло-Понти говорил, что главный урок феноменологической редукции — невозможность ее исполнения. По мысли Гуссерля, трансцендентальная феноменология имела задачей отыскание «эйдосов», или вневременных сущностей, в самом сознании. В этом смысле трансцендентальная феноменология выступала как эссенциализм. Поэтому Хайдеггер шел к анализу человеческого бытия (Dasein), минуя «я мыслю». Феноменологическая редукция Гуссерля как бы отторгла сознание от внешней реальности.
Критикуя этот момент феноменологии в разных своих работах, Сартр пытался, не отказываясь от главных постулатов Гуссерля, найти средство для соединения сознания и мира. Для Сартра возможность «выхода» к миру, из которого временно, по методологическим соображениям, выводился гуссерлевский трансцендентальный субъект, открылась благодаря фундаментальной характеристике трансцендентального сознания — интенциональности. Сартр берет данное понятие у Гуссерля, внося, однако, ряд изменений.
Интенциональность, как мы знаем, — это понятие ряда философских учений (не только феноменологии), фиксирующее особенность человеческого сознания, которая состоит в его направленности на какой-либо предмет. У Сенеки intention — это способ движения души (motus animi), у Фомы Аквинского — одно из орудий интеллекта, актуализация его потенции с помощью усвоения объекта сознанием. Гуссерль, развивая в «Логических исследованиях» идею интенциональности, в отличие от схоластов, избегал говорить о «наличности» предмета в сознании и, в отличие от Брентано, дажео деятельности сознания по соотнесению с предметностью. По Гуссерлю, все, что говорится об интенциональности, касается только чистых структур сознания. Для Гуссерля все и всякие интенциональные предметы, будь то физическая вещь, город Фрайбург или тысячеугольник, равно идеальны и принадлежат сознанию в качестве коррелятов интенциональных актов. Гуссерль понимает интенциональность как всеобщее свойство сознания — быть «сознанием о…»

Гуссерлевский тезис, что сознание есть «сознание о чем-то», используется Сартром как способ разделаться со спиритуализмом, со сведением бытия к актам сознания. Такая интерпретация гуссерлевского тезиса об интенциональности сознания, выведение сознания «на очную ставку с бытием» без каких бы то ни было культурных инстанций (а ими могут быть и эйдосы Платона, и врожденные идеи Декарта, и априорные категории рассудка Канта) сразу сообщает сознанию то самое экзистенциальное измерение, которого был лишен гуссерлевский трансцендентальный субъект. С точки зрения Сартра, в отличие от Гуссерля, важнее столкновение с «плотным» и «неподатливым» миром вещей, внеположных сознанию или трансцендентных по отношению к нему, а не «схваченных» в понятийной сетке чистых представлений. И это столкновение, эта утрата власти над «словом» очень травматичны для сознания — что мы видим в романе «Тошнота».
Феноменологическая редукция Гуссерля не была чем-то беспрецедентным в истории философии. В общем она повторяла прием метода сомнения Декарта (воздержание от суждения об истинности мира) и трансцендентализм Канта. Но первичная достоверность сомнения через «я мыслю» привела Декарта к открытию мыслящей субстанции и населяющих ее врожденных идей. Кант же пришел к обнаружению трансцендентального субъекта как носителя априорных категорий рассудка, имеющих общеобязательный характер. Движение мысли Гуссерля было более радикальным: редукция высвобождала сознание от всяких предпосылок познания, будь то врожденные идеи или категории рассудка. Коррелятом этого сознания оказывалась не природа как объект чистого естествознания (в критической философии Канта), а «жизненный мир», идею которого выдвинул поздний Гуссерль. Тем самым была открыта возможность для смещения центра исследования в область дорефлексивных слоев сознания, или «наивного сознания». Именно эту особенность феноменологии имел в виду Сартр, когда утверждал, что для Гуссерля познание, или «чистое представление», есть лишь одна из возможных форм сознания. Сартр пишет: «Гуссерль вновь водворил в вещи ужас и очарование. Он восстановил мир художников и пророков — ужасный, враждебный, опасный, с гаванями благодати и любви. Он расчистил место для нового трактата о страстях…» [11 ]
Достаточно было довести до логического завершения тенденцию, содержащуюся в феноменологии, — сделать деятельность сознания абсолютно беспредпосылочной (что, с точки зрения Сартра, означает отказ рассматривать человека по способу вещей) или упразднить все природные определения человеческой реальности, а также освободить ее от «платонических» и культурных определений, чтобы поток сознания распался на серию однократных, ни на чем ни основанных актов. Для основного проекта Сартра — метафизического освобождения человека, тотального освобождения сознания — необходимо было избавиться от остатков субстанциальности в феноменологии. Прообразом мыслящей субстанции для Сартра было трансцендентальное Я. Элиминировать его можно было путем радикальной феноменологической редукции. Сартр осуществил эту операцию в работе «Трансценденция Эго» (1936), посвященной проблеме соотношения сознания и психического. Трансцендентальное сознание Сартра — это спонтанное, автономное, нерефлектированное сознание. Оно характеризуется как непосредственное и очевидное присутствие перед самим собой. Оно-то и является воплощением свободы, ибо «ничто не может воздействовать на сознание, потому что оно есть источник самого себя» [12 ].
Вслед за Гуссерлем Сартр выделяет два вида сознания: тетическое, то есть опредмечивающее, объективирующее, тематизирующее, «полагающее» бытие мира и субъекта, и нететическое — неартикулирующее, необъективирующее, неопредмечивающее, нетематизирующее, выносящее за скобки бытие мира и субъекта. Парадоксальным образом, по Сартру, получается, что субъект нерефлексивным (нететическим) образом узнает о себе, что он не субъект. Сартр пишет: «Нететическое сознание является сознанием себя (о себе) в качестве свободного проекта к возможности, которая есть возможность, поскольку оно (нететическое сознание) является основанием собственного Ничто» [13 ].
Сознание освобождается Сартром не только «снизу», от детерминирующих сознание нейрофизиологических механизмов, но и «сверху», от начинающегося с рефлексии познавательного процесса. Сартровское толкование феноменологической редукции Гуссерля позволило ему полностью разделаться с наследием Просвещения — понятием человеческой природы: человеческая природа выносилась за скобки независимо от того, в каком виде она выступала, — в виде ли универсальной мыслительной способности, универсальной способности к восприятию, всеобщего нравственного закона, воли к власти или либидо. Кроме того, трактовка сознания как прозрачности, очевидного присутствия перед самим собой должна была, по мысли Сартра, освободить сознание от подчинения любым проявлениям психического — от аффектов, фрейдовского бессознательного и вообще от любых детерминирующих механизмов. Уровни онтологического и психологического оказываются четко разделены.
Итак, метафизика Сартра создавалась в ходе преодоления двух стратегий в онтологии и антропологии: позитивистской трактовки человека как части природы (по существу — как вещи) и спиритуализма, растворявшего бытие человека в системе идей. Отсюда вытекают две основные стратегии метафизики Сартра: антивещизм и антиплатонизм, к которым мы будем контрапунктом возвращаться. Антивещизм в философии Сартра осуществлялся в борьбе с позитивистским редукционизмом, сведением психики к нейрофизиологическим механизмам. Этому посвящена его работа «Воображение» (1937), а в художественном плане — роман «Тошнота». Вторая тенденция сартровской философии — антиплатонизм, антиэйдетичность — рассматривается Сартром как средство преодоления главного недостатка предшествующей метафизики — сведения бытия к мышлению («Бытие и Ничто» и «Тошнота»). Это был уже упомянутый нами поворот он гносеологизма к онтологизму. Для Сартра такая переориентация гарантировала не только обретение «плотного», «обнаженного» бытия, предлежащего человеку, — бытия, от которого, по мнению Сартра, человек был отторгнут как в предшествующих, так и в современных ему философиях, — но и выход к «подлинному», с его точки зрения, субъекту.
Сознание, «бытие-для-себя», буквально означает «не-в-себе», неравность самому себе, интенциональность, направленность на что-то иное, внеположенное сознанию, — все что угодно, все, что можно помыслить. Само сознание при этом становится «тотальной пустотой», Ничто. Например, в работе «Трансценденция Эго» Сартр расценивает отношение пустого трансцендентального сознания к психическому как к чему-то внешнему [14 ]. Здесь весьма прозрачна аналогия с христианской апофатической теологией, определяющей Бога как «ни что из сущих», как «Ничто». Аскетические практики «опустошения сознания» присутствуют практически во всех религиях, особенно в мистических течениях, будь то христианство, ислам, брахманизм, буддизм, даосизм [15 ]. В христианской мистике (например, у Майстера Экхарта) сознание через отрешенность «опустошается» ради восприятия Бога [16 ]. У Сартра же сознание «опустошается» не ради восприятия Бога, а ради самого «ничтожения»; именно этот «дефект» с точки зрения христианской антропологии порождает «тоску» и «тревогу» — от того, что сознание абсолютно свободно, «всевластно», суверенно и беспредпосылочно, оно не находит достойного «объекта заполнения» (каковым является Бог в христианской мистике). «У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет ее как может», — пишет Сартр в новелле «Интим».
Сознание, по Сартру, связывается с феноменальным бытием не познавательным отношением, а соотносится с ним непосредственно. «Бытие будет обнаружено нами некоторыми средствами непосредственного доступа, скуки, тошноты и т. д.» [17 ]. «Бытие-в-себе» абсолютно безразлично к сознанию, «бытию-для-себя». Именно это безразличие порождает в человеке двоякое чувство в отношении мира: либо онтологическое отвращение (в романе «Тошнота»), либо мучительную онтологическую же зависть (в цикле «Дороги свободы»), но в любом случае это чувство абсолютной инаковости, чуждости, отторгнутости. Мы помним, как Матье Деларю тщетно пытается разделить покой балюстрады Нового моста в Париже, как он завидует цветку в горшке, потому что им не нужно принимать решения, выбирать. А мсье Рокантен одолеваем и мучим вещами, которые даже именовать не может, будь то скамейка с красным плюшевым сиденьем в трамвае или корень каштана в парке.

В отличие от Платона, для которого мера бытия вещи или явления определялась степенью их причастности идеям, бытие-сознание у Сартра («бытие-для-себя») оказывается совершенно «безыдейным», а когда речь идет о внеположной сознанию реальности («бытии-в-себе»), то определяется степенью сопротивления, которую оно оказывает неантизирующей (отрицающей) деятельности сознания. Жизнь сознания в описании Сартра оказывается перманентным отрицанием внеположного бытия и собственного прошлого, своих наличных состояний. Будучи «ничто», сартровский человек выделяет это самое ничто, «как железа выделяет гормоны». Сартр прослеживает (разумеется, не исчерпывающим образом) традицию описания сознания как отрицания в европейской философии. Он приводит формулу Спинозы: «Определять — значит отрицать». Это изречение восхищало Гегеля, который переформулировал его в суждение: «Дух — это негативное». Мы можем сказать, что у Сартра формально-логический подход к понятию «ничто» (не то, не это и так далее) переходит в онтологический: вопрос о бесконечном Ничто включается в вопрос о Бытии.
То неистовство, с которым сознание неантизирует мир, имплицитно указывает на избыточностьбытия материального мира и на постоянную угрозу, исходящую от него. Антиплатоновская тенденция сартризма описана опять-таки в «Тошноте» как контакт сознания и освобожденного от словесной шелухи бытия мира. Сознание героя романа Антуана Рокантена «сдирает лакировку» с вещей (мы можем назвать эту «лакировку» формой вещи или ее контуром, сообщающим вещи определенность, — это не имеет значения). «Сдирание» происходит помимо воли субъекта — в этом отличие от аскетических практик разных религий. Тем самым открывается бесформенная масса протеической «материи», которая «принимает на себя» различные (в случае Рокантена — болезненные) порождение сознания. Материальный мир предстает перед человеком, перед его экзистенцией, как чуждый и враждебный. Человек окружен миром, без которого он не может существовать; он ищет поддержки в вещах, но не находит ее. Вещь обладает спокойным, неизменным состоянием бытия, ей неведома «тревога будущего», неведомо «бытие-к-смерти».
Для человека, в отличие от вещи, нет никакой предзаданности, поэтому субъект выбора (сознание) всегда отягощен сознанием того, что из множества потенциальных возможностей он актуализировал только одну — возможно, вовсе не лучшую. В силу этой неуверенности субъект всегда подвержен «тревоге» (ужасу, что соответствует большинству русских переводов, например, Хайдеггера) — имплицитному осознанию того, что он мог бы поступить иначе, в то время как предпочтенный выбор вовсе не гарантирован как самый правильный. Первое отрицание, посредством которого человеческая реальность утверждает, что она есть то, что она не есть, не равна себе, несамодостаточна, переживается именно как тревога; человеческая реальность есть, по Сартру, «неантизирующий экстаз». Тревога в данном случае — это страх человека перед собственной свободой, перед лицом «набора» различных возможностей своего бытия. «Именно в тревоге, — утверждает Сартр, — человек осознает свою свободу, или, если хотите, тревога есть способ бытия свободы в качестве сознаваемого бытия. Именно в тревоге свобода в своем бытии подвергается вопрошанию о себе самой» [18 ]. Человек понимает, что никакая мотивация не может изъять из его действий свободу, ибо человеческое действие принципиально беспредпосылочно, оно всегда может быть другим. При этом, выбирая одну из возможностей, человек вынужден «ничтожить» другие возможности.
Но кто же «отторгнул» человека от мира? Кто сделал его «изгнанником» и «посторонним», обрек на «проклятую долю» (Батай)? «Мир» не может этого сделать: он не изоморфен человеческому сознанию, не может «отвергать» нас или «открываться» нам. Нельзя, собственно, даже сказать: «Миру нет до меня дела», ибо это предполагает латентную дихотомию, что миру «могло бы быть дело» до меня! Невозможно ни то ни другое. Очевидно, что именно «опустошенный» деконструированный субъект внетеистической экзистенциальной философии ХХ столетия — субъект, лишенный «эйдетичности» и «эмпиричности», нерефлексивным образом сам отторгает себя от мира. Ему не на что «опереться», будь то Бог, cogito и так далее. Очевидно, в сознании человека Сартра есть некая базовая трансценденталия отторгнутости от мира.
Пожалуй, можно сказать, что Сартр — это целая одиссея ХХ века: философская, литературная, публицистическая; эта одиссея не закончена и по сей день. Приведем лишь один пример: онтология негативности Сартра, его представление о несамотождественности и несамодостаточности, онтологической безосновности деконструированного субъекта дали возможность построения различных «нестабильных онтологий» — Жиль Делёз, Оливер Маркхарт, Рене Жирар, Ален Бадью и другие, будь то «онтологии нехватки» или «онтологии избытка», — даже если сами они не признают родства с Сартром, возможно, из принципа «Свое родство и скучное соседство / Мы презирать заведомо вольны».
Источник: pp.userapi.com